Как Твардовский помог Абрамову
Пятьдесят лет назад в журнале «Новый мир» опубликован второй роман тетралогии «Пряслины» – «Две зимы и три лета».
Шесть лет писал Фёдор Абрамов роман «Две зимы и три лета». Как он потом сказал, это были «шесть лет раздумий и слёз над безрадостным житьём-бытьём послевоенной деревни, над безотцовщиной, над судьбой разутой, раздетой и вечно голодной семьи Пряслиных, этим живым будущим России».
Книга, полная огненной боли
Но куда отнести рукопись? В журнал «Нева» идти не хотелось: выгнан оттуда из‑за повести «Вокруг да около», с которой разбирались аж в ЦК КПСС… Отнёс в ленинградский же журнал «Звезда», автором которого был с давних пор. Оттуда долго не поступало ответа – редколлегия боялась публикации из‑за остроты вещи. Наконец писателя известили, что напечатать «Две зимы…» можно только после выполнения требований: изменить трактовку образов Евсея Мошкина (не таким попа надо изображать для читателей-атеистов, не человеком «чистой души») и первого секретаря райкома Подрезова (пригладить его надо было), «разрядить мрачную атмосферу деревенской жизни».
Автор с этими требованиями не согласился и отправил рукопись в «Новый мир». 24 июня 1966 года в присутствии Абрамова там состоялось первое обсуждение писательской работы. Фёдор Александрович записывал и одобрительные высказывания (такого смелого изображения деревни у нас ещё не было), и критические («слишком нагнетаются беды» и так далее). В целом роман одобрили. Но над ним Фёдор Александрович работал ещё год. Надо было ждать окончательного ответа от главного редактора А. Т. Твардовского, который не участвовал в обсуждении.
29 августа 1967 года Александр Трифонович Твардовский, колоссальная фигура в истории русской литературы, написал Фёдору Александровичу Абрамову письмо. Оно стало, по словам Л. В. Крутиковой-Абрамовой, «одним из самых радостных событий в жизни Абрамова». И не только потому, что письмо «определяло судьбу романа, но и потому, что понял и высоко оценил роман самый авторитетный и прогрессивный в стране литератор…»
Критик Леонид Ханбеков назовёт это письмо рукопожатием Твардовского.
Письмо большое, приведу его частично:
«Дорогой Фёдор Александрович!
Пишу Вам под свежим впечатлением от только что прочитанной Вашей рукописи. Всего, конечно, я не скажу в этом письме ни в смысле её значительнейших достоинств, ни в смысле некоторых недостач и слабостей, но не могу просто пребывать в молчании впредь до встречи с Вами, которая, полагаю, должна состояться в ближайшее время.
Я давно не читал такой рукописи, чтобы, человек несентиментальный, мог над нею местами растрогаться до настоящих слёз и неотрывно думать о ней при чтении и по прочтении.
Словом, Вы написали книгу, какой ещё не было в нашей литературе, обращавшейся к материалу колхозной деревни военных и послевоенных лет. Впрочем, содержание её шире этих рамок, – эти годы лишь обнажили и довели до крайности все те, скажем так, несовершенства колхозного хозяйствования, которые были в нём и до войны и по сей день не полностью изжиты.
Книга полна горчайшего недоумения, огненной боли за людей деревни и глубокой любви к ним, без которой, вообще говоря, незачем браться за перо».
Далее главный редактор остановился на образе Лизы («как‑то не хочется называть эту чудную девушку-девочку – Лизкой»): «она – истинное открытие художника, и человеческое обаяние этого образа просто не с чем сравнить в нашей сегодняшней литературе». Александр Трифонович подчеркнул, что и другие образы написаны не слабее. «… даже на редкость сильно показан первый секретарь райкома, на долю которого в литературе обычно выпадает роль «бога из машины». Замечательно, что этот фанатик «выполнения плана», страшный тем, что он не откуда‑нибудь извне, а здешний, знающий труд земляков, «бессердечный бурмистр, окаменевший в инертных понятиях, всецело зависящий от указаний», при ближайшем рассмотрении тоже человек».
Строгий редактор, Твардовский не мог не сказать и о том, что ему не понравилось в романе. Так, Михаила Пряслина он назвал «авторской проекцией „идеального героя”», но тогда, по мнению Александра Трифоновича, Пряслин «должен быть куда более интеллектуален, идеен, а в этом смысле он у Вас беден до крайности... Вы уж перехватываете через край, показав, что он даже имени Есенина не слыхал». Абрамов согласился – или сделал вид, что согласился с этим пассажем, поэтому про Есенина строки убрал. Однако всё же Михаил у него едва ли не книгочей, но автор не пояснил, когда его герой успевал читать. (В частности, в конце романа – размышление Михаила о судьбе сестры: «Спит притомившееся за день Пекашино – ни одного огонька в избах. Только он один неприкаянно, как преступник, мотается по ночной деревне. А почему? Отчего ему не спать тоже? Кончен бал, как однажды он прочитал в какой‑то книжке»).
Лизу Абрамов по‑прежнему называл Лизкой: в деревне‑то скупы на ласку, грубоват народ, – потому и Лизка.
Нелогично, на взгляд Твардовского, то, что Михаил после войны не пошёл работать в леспромхоз, где имел возможность, «по самой крайности, заработать хотя бы…10 руб. в день, т. е. 10 килограммов хлеба, которых он и в месяц не зарабатывает в колхозе. Соображения о том, что, мол, кто же будет землю пахать, в таких случаях несостоятельны – речь идёт о жизни его горячо любимых близких, да и о собственной молодости…» Но Абрамов стоял на своём. Михаил говорит: «Кто‑то должен же ковыряться в земле. Ведь за время войны где только не распахали залежи да пустоши. А потом – надо правду говорить – выручала их Анфиса Петровна в войну (председатель колхоза. – СД), крепко выручала. Да если бы не она, Анфиса Петровна, им бы и избы новой не видать. Это она первая сказала: «Михаил, ставь избу». И на неделю согнала людей – всех, у кого хоть мало-мальски топор в руках держится... И он опять пахал, сеял, ставил изгороди».
Оставил Абрамов и слова, которые не понравились Твардовскому: «пахать» пол (подметать; раз так говорят – пусть и слово останется), «матерь» (мать).
Что исправлено, что не исправлено – проверено мною по тексту, опубликованному в «Новом мире». Журнал взял в руки в Добролюбовке – богатая у нас библиотека.
«Внеисторический» подход
28 сентября 1967 года состоялось обсуждение «Двух зим…» уже в присутствии Твардовского. Чтобы отвлечь внимание цензуры (звучало словечко «проходимость»), надо было сочинить «оптимистический привесок». Возражать Абрамов не мог. «Вместо эпилога», датированное 20 ноября 1967 года, появилось только в журнальном варианте. («Да, перемены на Пинежье большие, и на них стоит посмотреть. Деревни отстроились. Новые дома. С электричеством, радио, с мебелью. И у Михаила Пряслина, как и у многих пекашинцев, тоже новый дом». Мол, всё распрекрасно). При первом же переиздании эту концовку автор снял.
Роман опубликовали в первом-третьем номерах «Нового мира» за 1968 год. Твардовский будет удивляться, как эта вещь «проскочила» через цензуру. Если бы на десять дней позже – и зарубили бы произведение. Помогло «счастливое стечение обстоятельств», по словам главного редактора.
Как и за «Братьями и сёстрами», за второй книгой будущей тетралогии читатели библиотек стояли в очередь. Автору писали, звонили, поздравляли, радовались за него, восхищались его мужеством и правдивостью романа. Что касается критики, картина была другой. 29 мая 1968 года в «Литературной газете» – доброжелательный, хотя и с оговорками отклик В. Иванова – «Факты жизни и художественное обобщение». «Литературная Россия» в номере за 28 июня опубликовала два мнения: первое – северянина по рождению Александра Михайлова – положительное, второе – разносное. В заметке «От редакции» поддерживалось мнение московского критика Петра Строкова. Он, считая Абрамова очернителем, отказывал ему даже в «попытках взглянуть на жизнь и быт деревни первых послевоенных лет с общегосударственных позиций…».
Другой критик обвинял Ф. А. Абрамова во «внеисторическом» подходе к теме. А история там – на каждой странице. Кузнец Илья Нетёсов хранил в плетёнке «разные бумаги: обязательства на поставку государству мяса, картофеля, зерна, яиц, шерсти и кожи, извещения на сельхозналог, самообложение, страховку, квитанции об уплате налогов». Как коммунисту пришлось ему ещё взять обязательство на добровольную сдачу государству 15 килограммов хлеба. Из-за этих килограммов у него с женой разгорелся сыр-бор.
– Да пойми ты, дурья голова, – опять начал объяснять Илья. – Не для жены, конечно, – ту колом не прошибёшь. Для дочери. – Страна такую войну перенесла… Везде нехватка. Нынче засуха. А города‑то нужно кормить? Там ведь не жнут, не сеют…
– Ну ясно. Городские без мяса не могут. А мы можем. Ты скажи лучше, когда наши дети последний раз мясо ели?»
Чтобы собрать деньги на подписку на государственный займ по восстановлению народного хозяйства, уполномоченный райкома Ганичев во многом рассчитывает на коммунистов, на того же Илью Нетёсова. Кузнец пробует отговориться от крупной суммы, 1200 рублей:
– Видишь, какое дело, товарищ Ганичев… – Илья опять посмотрел на жену. – Без молока живём. Охота бы какую животину заиметь. Хотя бы козу на первое время… Ребятишки…» «Плакала» коза, в семье разлад.
В «Новом мире» надеялись, что «Две зимы и три лета» выйдут в двухмиллионной «Роман-газете». Но там, сославшись на то, что нет единодушной оценки произведения (журнал «Огонёк» в майском номере тоже высказался против «Двух зим…»), печатать Абрамова отказались. Тогда «Новый мир» выдвинул своего автора на соискание Государственной премии СССР.
«Я так рад за Абрамова…»
Александр Твардовский «расцвёл», когда услышал от главного редактора «Комсомольской правды» Бориса Панкина, что тот «пытается сочинить что‑то» о «Двух зимах…». (Так написал будущий дипломат, последний министр иностранных дел СССР Б. Д. Панкин в воспоминаниях об Абрамове «Фёдор 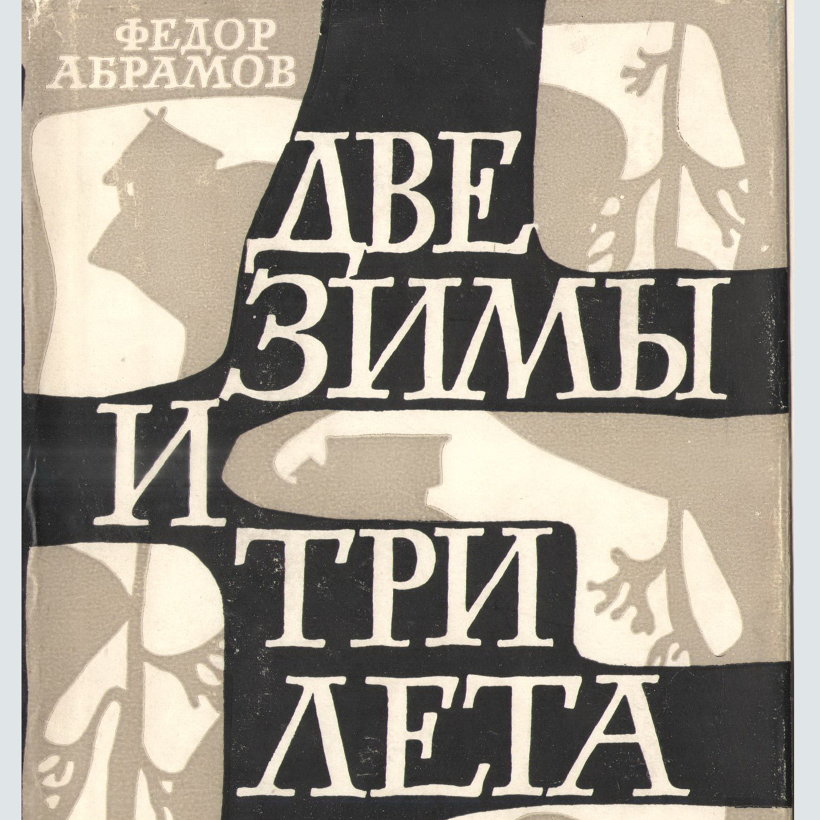 Великий Александрович»). Борис Дмитриевич дописал статью, назвал её «Живут Пряслины!». Свёрстанная, она заняла два подвала. И тут заместители главного Чикин и Оганов стали уговаривать шефа: для его, мол, блага надо отказаться от публикации. Дескать, статья будет воспринята как поддержка Твардовского, разгром журнала которого был уже неминуем; в ЦК не любят тех, кто идёт против течения. «Я знал это не хуже их, но отказаться от публикации не согласился. Хотя и догадывался, что мои бравые помощники высказывают не своё, вернее, не только своё мнение». Статья вышла 14 сентября 1968 года под рубрикой «Обсуждаем произведения, выдвинутые на соискание Государственной премии СССР».
Великий Александрович»). Борис Дмитриевич дописал статью, назвал её «Живут Пряслины!». Свёрстанная, она заняла два подвала. И тут заместители главного Чикин и Оганов стали уговаривать шефа: для его, мол, блага надо отказаться от публикации. Дескать, статья будет воспринята как поддержка Твардовского, разгром журнала которого был уже неминуем; в ЦК не любят тех, кто идёт против течения. «Я знал это не хуже их, но отказаться от публикации не согласился. Хотя и догадывался, что мои бравые помощники высказывают не своё, вернее, не только своё мнение». Статья вышла 14 сентября 1968 года под рубрикой «Обсуждаем произведения, выдвинутые на соискание Государственной премии СССР».
Вскоре после публикации статьи в «Комсомолке» Панкину позвонил Абрамов, голос которого главный редактор и критик услышал впервые. «И не переставал упиваться им на протяжении почти полутора десятка лет».
Панкин – из подростков военных лет, почти ровня по возрасту выстоявшему всю войну за первого мужика Пекашино Михаилу Пряслину. Это, конечно, сказалось на восприятии журналистом романа. Но захватили этого читателя «Две зимы и три лета» и другие аспекты произведения. В частности:
«Если Абрамов и безжалостен, то не к героям своим, а к нам, читателям, которых он заставляет до конца испить чашу познания. Но, осушив её, мы обнаруживаем драгоценный осадок – истинную красоту жизни».
Михаил Пряслин и секретарь райкома Подрезов похожи. Партийный начальник – «такой же беспросветный труженик, такой же мученик своего долга перед народом. Именно перед народом, в котором уже не отличить ему, Подрезову, одного человека от другого. Для Подрезова народ в целом – самое высокое, самое благородное понятие. А вот люди, те самые люди, с которыми он каждый день имеет дело, это совсем другое. … надо их, для их же блага, беспрерывно понукать, наказывать и заменять время от времени одного другим».
«Десятилетиями ведётся в литературе спор о положительном герое. Его, как эстафету, передают из поколения в поколение критики. А когда герой является, он порою долго остаётся незамеченным. Так было с айтматовским Дюйшеном – Первым учителем. Не повторилось бы то же самое и с абрамовским Михаилом Пряслиным».
17 сентября Александр Трифонович Твардовский написал Панкину письмо: «…хочу сердечно поблагодарить Вас за доброе дело – статью о Пряслиных. Я так рад за Абрамова, человека – мало сказать талантливого, но честнейшего в своей любви к «истокам», к людям многострадальной северной деревни и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в силу этой честности... Конечно, даже при сочувственном отношении к «Зимам и летам» Вы могли (и это уже было бы немало) ограничиться заказом статьи кому‑либо, но Ваша дорога тем особым поворотом темы «положительного героя», до которого вряд ли внешний автор дотянулся».
Точные оценки дадут абрамовскому произведению также критики и публицисты костромич Игорь Дедков, москвичи Георгий Радов, Всеволод Сурганов и другие, архангелогородцы Николай Жернаков, Шамиль Галимов.
Дороги Абрамову были и устные высказывания коллег, особенно – «голоса блокадного Ленинграда» Ольги Берггольц: «Читаю и лью слёзы. Великая правда».
В своё время Фёдор Абрамов познакомился с финским писателем Вяйне Линна, книги которого знал. (А Линна читал роман «Две зимы и три лета»). «Мы встретились как старые знакомые, как братья, – напишет Абрамов. – Да для этого, как вскоре выяснилось, у нас было и немало оснований, в том числе чисто биографического порядка. Оба в одном году родились, оба, что называется, от сохи, оба участники войны, оба прошли… через инфаркт миокарда и – что уж совсем удивительно – в одном и том же году».
Линна заговорил о «Двух зимах…», и Абрамов не мог не запомнить его слова: «Если бы я писал своего «Неизвестного солдата» после чтения вашей книги, я, возможно, кое‑что написал бы иначе, потому что одно дело стрелять в абстрактных, неизвестных тебе людей. А другое дело – в Михаила и Лизу».
Писатель Виталий Маслов – он родом из мезенской поморской деревни Сёмжа – рассказывал, что, когда рос, чувствовал себя как на задворках жизни: на стройку коммунизма тамошнее житьё-бытьё никак не походило. «Но это не главное. Главное, что всё, чем я дышал, чем до болезненности дорожил и что пытался осмыслить в первых своих литературных опытах, отвергалось, не узнавалось как жизненно достоверное и достойное литературы. Ожёгшись раз-два, дорогих мне людей, дорогих мне мест решил больше в рассказах не касаться. И вдруг читаю «Две зимы и три лета»! Книга перевернула меня. Я был счастлив: оказывается, всё моё заветное имеет право на жизнь, в том числе в литературе, оно и вправду прекрасно!.. Вместе с Михаилом Пряслиным я человеком себя почувствовал».
Виталий Семёнович Маслов видел, «как заходились над романом горькими и счастливыми слезами уже немолодые женщины – те, которые в войну безропотно выносили всё. «Теперь и помирать можно, – услышал я от дорогого мне человека. – Ведь всю нашу жизнь увидел Абрамов и показал. Не зря прожили…».